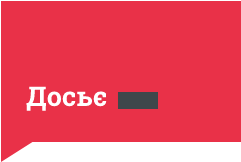Інтерв'ю
Гельман: Якщо порівнювати з мистецтвом, то політика в Україні здається мені пошловатою

Марат Гельман в Украине известен большей частью как политтехнолог. К сожалению, потому что политическое консультирование одиозных политических сил не добавляют очков одной из самых прогрессивных и влиятельных фигур современного искусства постсоветского пространства.
В свое время киевская галерея Гельмана, не смотря на всю свою позитивную роль в украинском арт–процессе, оказалась в мрачной тени Медведчука. Собственно, у российских злопыхателей к Гельману претензий еще больше. С 1995 по 2002 он был совладельцем "Фонда эффективной политики" Глеба Павловского, в 2002–2004 был заместителем у "Дарта Вейдера" – Константина Эрнста на "ОРТ".
В итоге Гельман ушел в в своего рода арт–оппозицию, манифестом которой стал проект "Россия–2". На примере биографии Гельмана можно постигать законы диалектики, не в меньшей степени его личная траектория располагает к изучению законов драматургии.
Нынче Марат Гельман пришел к вполне голливудскому финалу в своей карьере галериста для того что бы посвятить себя культурной революцией в уральском городе Пермь, а заодно и в "Общественной палате" РФ. И если верны его идеи о роли современного искусства и креативной экономике, то может статься, что в культурной политике Гельман добьется не меньшего чем в современном искусстве.
Как бы то ни было, побывав на выставке "Русское бедное" , визитной карточке Пермского музея современного искусства, лучшей выставке Московской биеннале, поневоле задумываешься что было бы если б этот одаренный человек время потраченное на службу у "сил зла", посвятил бы искусству.
Все казалось бы слабые стороны русского искусства – маргинальность и бедность, Гельман превратил в преимущества. "Русское бедное" получилось уникальным, изобретательным, и на удивление целостным проектом. Кстати, весной в Перми состоится выставка современного украинского искусства.
Собственно о роли украинского искусства, коллекционировании и своем прошлом в политике Марат Гельман рассказал "Украинской правде".
– Марат, какую роль в вашей жизни сыграло украинское искусство?
– В 1987 году, когда я пытался коллекционировать, художники, которые в Москве были наиболее интересными, мне уже были недоступны по ценам. Прошли русские торги на Sotheby's, художники получили огромные по тем временам деньги.
Было понятно, что я должен найти новых художников, либо буду вынужден заниматься художниками второго плана, а этого не позволяли амбиции. Тогда казалось, что кроме московского концептуализма ничего нет и быть не может. Илья Кабаков был почти небожителем. Другие художники даже если были талантливы, великим учением не владели.
В поисках я начал дружить, общаться и покупать работы украинских художников. Было ощущение, что это какие–то удивительные ребята, у них совсем другое, недогматичное мышление. Я сам догматик, но думал, что художники должны разрушать конструкции.
Первая выставка, которую заметила критика – "Южнорусская волна", на 80% состояла из украинцев и на 20% из ростовчан. Собственно, с выставки все и началось, до этого на меня не обращали внимания, а тут первый раз пригласили заграницу.
Бажанов (прим. – художественный руководитель Государственного центра современного искусства) пришел и сказал: давай, открывай галерею. Я ответил, что не знаю коллекционеров, а он говорит, ничего, будешь искать новых художников, а я буду приводить к тебе клиентов. Никого за 20 лет ни разу не привел, но соблазнил.
– С кем из украинских художников продолжаете работать?
– Я уже не галерист, но для Музея современного искусства в Перми мы готовим большую выставку украинских художников. В моей коллекции много работ Гнилицкого, Голосия, Цаголова, Ройтбурда, Савадова… Савадова&Сенченко уже нет, даже жалею, что подарил Русскому музею в Петербурге.
– Зачем вы это сделали?
– Подарил 50 работ, тогда думал, что не буду делать свой музей. Своим успехом я обязан художникам, решил, что должен сделать для них что–то хорошее.
Одно дело сотрудничество – это взаимовыгодная вещь, мне же хотелось сделать что–то вне выгоды. С одной стороны, так была выражена моя благодарность художникам, а с другой – приобрел себе билетик в вечность. Приезжаю куда–нибудь, прихожу на выставку, в каталоге написано: из коллекции Марата Гельмана. Собственно, билетик в вечность – один из мотивов коллекционирования.
– Александр Ройтбурд говорил, что вы, в отличие от других галеристов, не барыга, а идеолог, романтик. Если это правда, то как это соотносится с бизнесом?
– Бизнес всегда курил в сторонке, ни одной выставки за 20–ть лет не было сделано ради денег. В России галеристами становились художники, критики, жены богатых людей, я был коллекционером – человеком, который страстно любит искусство, вкладывает собственные деньги – и в этом был удивительный азарт. Дело в том, что прагматизм в искусстве тоже существует, но он другого порядка – как у Гете в "Фаусте": все золото мира за вечность. Ты все равно не заработаешь все золото мира, а вечность она где–то блестит рядышком.
– Как вам удалось заинтересовать Виктора Пинчука современным искусством?
– Под черноморскую камбалу (смеется). На самом деле, было много разговоров, но ключевой состоялся в Ялте, когда Пинчук уже собрал небольшую коллекцию. Все это происходило на фоне все более угнетающей украинской политики. Мы встречались тогда по политическим вопросам, все больше людей переставало понимать, что делает Леонид Кучма, и растущее беспокойство мы, каким–то образом, снимали разговорами об искусстве.
Пинчук сказал: "Давай попробуем сделать музей". Я сказал, что это серьезное дело и, если начинать, то нужно делать до конца, пробовать не буду. Он говорит: "Хорошо, а что взамен?" Я тогда разложил бенефиты, то есть какие выгоды он может извлечь, и последним была возможность получить еще одну любовь.
Мне трудно представить, как можно страстно увлечься коллекционированием старого искусства – это все равно, что марки собирать – абсолютно детский набор картинок. Когда занимаешься современным искусством, то общаешься с художниками непосредственно, а не пытаешься, через искусство угадать, каким был тот или иной художник.
Еще важный момент: в старом искусстве все шедевры уже в музеях, на рынке есть работы известных мастеров, но не лучшие, "Герника" никогда там не окажется, а в современном искусстве есть возможность собрать шедевры, быть в самом центре, быть значимым.
Только, в отличие от той политики, которую ведет сегодня PinchukArtCentre, я думал, что тогда можно было собрать, причем недорого, коллекцию постсоветского искусства и таким образом зафиксировать свою уникальность. Карта художественного мира такова, что ты всегда путешествуешь между универсальным и уникальными. Но Виктор Пинчук очень быстро не то, чтобы соскочил, а понял, что ему не очень интересно заниматься украинским искусством.
Сейчас его позицию трудно оценить. Если рассматривать как временную стратегию, он прав, потому что фактически тогда бы он вместе с украинским искусством пробирался бы в международную ситуацию. А так, он сначала без некоего непростого багажа в ней оказался и сейчас может справиться со второй задачей – продвижением украинского искусства.
Но как бы то ни было, Пинчук отличался от богатых людей того времени интересным, очень пластичным мышлением. Был еще один такой человек – Суркис, но он был очень увлечен футболом.
Пинчук увлекся современным искусством, была собрана "Первая коллекция". К сожалению, я к тому времени начал контракт с "Первым каналом" и эту "Первую коллекцию" увидел уже собранной. Дело в том, что коллекционер отслеживает не только тенденции, но качество.
Может, поэтому Пинчук и решил двигаться на Запад. В "Первой коллекции", ее курировал Ройтбурд, тенденции были отслежены правильно, но в том, что касается качества, все–таки нужно было участие коллекционера. Это разные вещи: сделать выставку и подобрать коллекцию. Но как получилось, так получилось.
– Существует мнение или миф, что современное искусство инновационно, таким же образом влияет на сознание, именно поэтому оно необходимо обществу. Так ли это?
– Безусловно. Меня таким, какой я есть сейчас, сформировали художники. Что касается общества, в России было две тенденции – одна захлопнуться, закрыться, построить особый русский мир, вторая – вернуться в прошлое. Все русские политики вместо будущего предлагали один из вариантов прошлого.
Современное искусство сопротивлялось обоим тенденциям. Бизнес не сопротивлялся, очень быстро стало понятно, что протекционизм может быть выгоден: когда запрещают грузинскую минеральную воду, русская будет хорошо продаваться.
Важно, что современное искусство влияет на мышление людей, открывая новую систему оценок – систему критериев новаторства, творчества. Это – другая система оценки деятельности и, если ты не занимаешься искусством, а чем–то другим, то начинаешь оценивать свою деятельность теми же критериями, которыми пользуется художник.
В Перми открылась новая сторона искусства – его влияние на экономику. Похоже, что это влияние может быть такого же масштаба, как влияние ученого на экономику в ХХ веке. Прежде, ученые были людьми, которые сидели в своих лабораториях, что–то мастерили, писали трактаты в монастырях, смотрели в небо, но к индустриальной жизни не имели никакого отношения. И вдруг, в ХХ веке, прогресс и все общество рвануло вслед за учеными.
В ХХI веке фигурой, влияющей на экономику, возможно, будет художник. Мы в Перми столкнулись с ситуацией, когда вся промышленность стоит, ее собираются хоронить, собственно говоря, нас позвали в качестве такой похоронной команды, которая сумеет превратить индустриальный город в культурную столицу.
Вдруг мы обнаруживаем, что промышленность стоит не потому, что плохие технологии, а у людей корявые руки, а потому, что нужен дизайн продукции. Мы пригласили Тему Лебедева, создаем дизайн–центр, который будет поднимать промышленность.
Тоже самое касается развития туризма, и, так называемой, креативной экономики. Неожиданно выясняется, что художник создает ее вокруг себя.
– Даже после кризиса?
– Не даже, а, наоборот, – на фоне падения цен на нефть. Понятно, что людей в этом нужно как–то убеждать, и я всегда говорю, что произведения искусства, созданные Пикассо, равны 2/3 стоимости Газпрома. Хотя у Газпрома трубы, лицензии, огромные здания, а Пикассо – всего лишь художник. Джоан Роулинг, автор "Гари Поттера", платит больше налогов, чем британские владельцы угольных шахт. В Италии нет нефти, доход приносит культурное наследие.
В Перми, например, есть коллекция деревянных идолов. Люди на пароходиках по Каме плывут, специально останавливаются на них посмотреть. После идут в рестораны, покупают сувениры. На такую экскурсию уходит 4 часа, сделаем Музей современного искусства, туристы будут останавливаться в городе, вырастет инфраструктура.
В этом смысле, мы в Перми чувствуем себя людьми, которые не только ответственны за искусство, культурный досуг, но за то, что город–миллионник будет продолжать жить, развиваться.
– Как вам удается убедить чиновников?
– С чиновниками никогда дел такого рода не имел, и тут же мне повезло с Олегом Чиркуновым (прим. – губернатор Пермского края) – он нехарактерный чиновник. Наполовину понимает, наполовину доверяет. Уровнем ниже, там скорее доверяют, чем понимают. Позиция уникальная: от меня ждут, что какое–то чудо совершу. И наша команда на чудо нацелена.
В Перми замечательный министр культуры – Борис Мильграм. Я скорее занимаюсь идеологией и процессами, связанными с музеем, а он реальный менеджер. В команде сейчас 24 человека, которые преобразуют Пермь. Двадцать четыре пары горящих глаз: разные люди, разные позиции – кто–то директор театра, кто–то директор музея, кто–то руководит фестивалем. Сейчас еще пригласим людей, начнем заниматься городом, украшать его искусством.
– Современное искусство в России занимает странное место, с одной стороны, последняя Московская биеннале стала исторической – показали искусство понятное и народу, и начальству, а с другой, – никак не закончатся все эти абсурдные судебные процессы против кураторов и художников.
– Еще в 2000 году я говорил художникам, что, когда мы наконец обратим на себя внимание, то получим и восторги, и судилище. Невозможно привлечь внимание только одной части общества.
Мракобесие в России – это очень распространенное явление. С ним сталкивается не только современное искусство, но и любое начинание, которое идет в сторону преодоления замкнутости и попыток возврата в прошлое. И не важно какое это прошлое – брежневское, сталинское или царское. Такое искусство всегда вызывает реакцию мракобеса, который не может смириться с тем, что есть люди, которые по–другому мыслят.
У нас в семье есть такая ярая коммунистка – тетка жены. Она пожилой, уважаемый человек, воевала. Никто же с ней не борется, даже разговоров с ней не ведем, любим. А мракобес, если видит человека, который иначе мыслит, то становится ему врагом и идет громить, или в суд. То есть инакомыслие воспринимается как угроза. Есть страны с религиозным фундаментализмом, где еще хуже – мракобесие узаконено.
– А вы считаете, что это спонтанная реакция православных граждан на искусство? Иногда похоже на использование технологий для тех или иных целей.
– Это не технология. Правительство России – главный европеец (улыбается). Мы выиграли 4 суда, безусловно – это представители общества.
– Где проходит граница допустимого в искусстве?
– Трудно сказать. Художественной пространство – замкнутое. Можно сделать лабораторную выставку не для широкой публики. Об этом лучше говорить с художниками, чем с куратором и галеристом, потому что куратор работает с готовой продукцией. В свое время венские акционисты сформулировали, что нельзя причинять вред другому, в том что касается физического насилия. Себе – можно.
Другая граница – нельзя окончательно разбивать стену между искусством и жизнью, как это сделал Орсон Уэлс. Известная история – радиошутка о нашествии марсиан. Многие в это поверили, но мало кто знает, что у некоторых остановилось сердце, люди умерли. Сегодня Уэлса посадили бы, он пробрался через стены доверия.
Третья граница, это конечно, законодательство, может не самое лучшее, но по крайне мере, художник знает, на что идет. Когда Бренер рисует доллар на картине Малевича, общественность его понимает, но при этом не осуждает тех, кто его посадил.
– Нужно ли беречь детскую психику от современного искусства? Показываете ли современное искусство вашей 7–летней дочери?
– Ходит на выставки, хотя из спальни работу Олега Кулика, с изображением "камасутры" человека и собаки, мы убрали.
Полагаю – это надуманная проблема. Хотя на выставках, на некоторые работы, мы ставим объявления, чтобы родители знали, что увидят их дети. Они могут сами зайти и решить, стоит ли позволять детям на это смотреть.
– В том, что касается политики и консультирования, вы о чем–то сожалеете?
– С самого начала я этим занимался исключительно для зарабатывания денег. И как только галерея стала приносить доход, на который смогла жить семья, я прекратил это занятие. Сейчас консультирую не за деньги, а по принципу – помогаю друзьям. Позиция, которую я прежде занимал – это позиция адвоката, то есть важно никогда не идентифицировать себя с делом, если хочешь быть успешным. Поэтому свое я никогда не включал, только однажды это было с Кириенко.
– Приходил ли Виктор Медведчук на вернисажи в киевскую галерею Гельмана?
– Мог прийти, но он был очень регламентированным. Искусство разрушает регламент и создает общество: у меня, на вернисаже в Москве, могли встретиться финансовый директор демократической партии США и Зюганов – лидер компартии России. В Киеве тоже бывали такие странные вещи: с одной стороны – Корчинский, с другой – Суркис или Луценко. Искусство создает новую социальность.
Что такое светская жизнь? Депутаты Верховной Рады вместе – не светская жизнь, художники в подвале – не светская жизнь, когда это все перемешано, вот тогда – это светская жизнь, некое начало формирования элиты.
Есть два человека, Виктор Пинчук и еще один, которых я, так сказать, на что–то сподвиг. Но мне кажется, важно другое – в Киеве запустился процесс. У Саши Соловьева появилась возможность что–то сделать, потому что все знали, что Соловьев хороший критик, но думали, что он не умеет работать с проектами. Его взяли арт–директором, он показал, что умеет. Какие–то люди поняли, что такое галерея, создали галереи. Мне кажется, что больше влияния в Киеве было на художественную среду, чем на бизнес.
– Как вы относитесь к тому опыту пятилетней давности?
– Сейчас, в связи с тем, что занимаюсь музеем современного искусства в Перми, пытаюсь сделать так, чтобы московская галерея без меня не погибла и могла существовать. Но добиться этого трудно, тогда я этого не понимал. И в этом смысле, для меня тот опыт – отрицательный.
В искусстве практически невозможно делегировать, потому что это не бизнес, который можно создать и продать, и он потом работает как машинка. Тогда я очень мало занимался галерей, но в тоже время я рад тому, что иногда вдруг встречаю людей, и они говорят, что мы у вас в киевской галерее выставлялись, я даже не знал, бывало так, что Саша Ройтбурд делал выставки, меня не спрашивая, самостоятельно. В этом есть и плюсы, и минусы.
– Вы занимаетесь в Украине политическими проектами, консультируете кого–то?
– Нет. Я еще раз повторю, 1 мая 2004, когда Кучма назначил Януковича своим претендентом, в этот день закончился мой контракт и с того момента никаких политических проектов не было. У меня есть товарищ, чья группа влияет на украинскую политику, и я иногда по–товарищески ему помогаю, но больше помогаю скорее какими–то контактами, которые у меня остались с того времени, чем работой или советами.
– Лебедев оказался в Киеве благодаря вам?
– Благодаря Кучме. Это Национальный резервный банк, у него большие интересы в Украине...
– Имею ввиду Артемия Лебедева...
– Нет. Я в Москве с 1988 года, я за эти 20 лет, со многими хорошими людьми подружился, но это не значит, что все, что они делают связано со мной. Лебедев еще в 2002 году создал филиал в Киеве. Так как у него в Москве хорошо налажен бизнес, просто решил сконцентрироваться на расширении деятельности киевского филиала, поэтому приехал.
– Следите ли за политической ситуацией в Украине?
– Честно говоря, не очень внимательно, вначале следил, было интересно, а сейчас перестал. Жизни гораздо больше, чем в политической ситуации России, но в искусстве гораздо больше жизни, чем в политике, по обе стороны границы, и она более осмысленная. Либо я перестал улавливать этот смысл, либо там его нет, а есть чистая энергия. Если это рассматривать в качестве искусства, то политическая жизнь Украины мне кажется пошловатой.
– Мемуары уже пишете?
– Я не писатель, в ЖЖ пишу.
– Что это вам дает?
– Блог в Живом журнале я завел для продвижения выставки "Россия–2". Все началось с того, что я пришел в Косте Рыкову (сейчас он депутат Думы, тогда был мой младший товарищ, работал на "Первом канале") и попросил сделать мне сайт, а он сказал, что самое лучшее – завести блог в ЖЖ.
Рыков – такой гений, в 15 лет имел бизнес в интернете, я когда–то ему помогал (они делали fuck.ru, язык паддонков.) По его совету я завел ЖЖ и, должен сказать, это действительно оказалось очень эффективно – первый раз на вернисаж выставки пришло 4 000 человек.
Вначале было просто интересно, а сейчас ЖЖ – это кусочек жизни, коммуникация с прессой, с арт–комьюнити, и еще, – общение с недоброжелателями. Ты знаешь, что есть много людей, которые тебя не любят, но ты с ними в жизни никогда не пересекаешься, либо тебя любят, либо из вежливости делают вид.
В ЖЖ обнаруживаешь большой пласт людей, которые тебя ненавидят. Они пишут комментарии, если не слишком хамские, ты отвечаешь, это очень интересный, важный опыт, который помогает общаться с теми людьми, которые тебя активно не приемлют. Кроме ЖЖ, ничто не может мне дать такой опыт.
– Что думаете о роли медиа в России. Нравится ли вам то, что произошло с российскими телеканалами?
– О мертвых или хорошо, или ничего. Есть манифест "Россия–2", я опубликовал его у себя в ЖЖ. Назовем это так – гражданская оппозиция. Он написан пять лет тому назад. Сегодня я его бы чуть откорректировал.
То, что мы сегодня наблюдаем в России, если к этому относиться как к уже сформированному обществу, суверенная демократия, система медиа, – это плохо, реально плохо, но если относиться к этому как к моменту перехода из одного общества в другое, то нормально.
Ситуация с медиа, которая была до этого, тоже была ужасна. Потому что с помощью статьи в газете человека можно было уничтожить. Ельцин был очень впечатлительный – увидел в газете и все: застрелить, уволить, начать войну. Можно было при помощи правильно написанной статьи начать войну!
Я понимаю тех людей, которые говорят, что медиа – одна из систем власти, мы хотим, чтобы медиа были встроены в вертикаль власти, тоже самое касается полпредов и назначения губернаторов. Это неправильно, но в ситуации, когда управляемости не было, и Татарстан принимал законы прямо противоположные законам РФ, возможно, что это было нужно.
Вопрос в том, найдутся ли те люди, которые вернут свободу прессы, избираемость губернаторов. Это серьезная проблема.
Моя концепция "Россия–2", заключается том, что есть один вариант, когда общество будущего будет результатом движения той политической системы, которая есть сейчас, но есть и другой вариант – общество будущего выстроится рядышком, и когда грохнется нынешняя политическая система, причем грохнется сама, от бессилия, "Россия–2" придет на смену.
Вела интервью Аксинья Курина